Архитектор звука
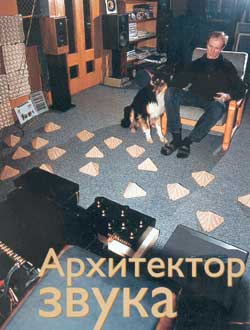 Объемный
звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при
этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится
переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,
полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и
некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как
склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не
хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных
образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.
Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару
лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже
переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь
единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались
обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными
двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая
художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет. Объемный
звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при
этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится
переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,
полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и
некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как
склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не
хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных
образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.
Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару
лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже
переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь
единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались
обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными
двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая
художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет.
Мое причащение к Петру состоялось значительно
раньше, оно до сих пор живо: зайдя в магазин «Гепард», я купил самый
дешевый аудиофильский кабель «Монстр». Продавцом был Петр Степанов,
запомнившийся странным напутствием: «Только не говорите никому об
этой покупке». Я рассказал всем, но все равно не сумел сбагрить
проклятый кабель за все прошедшие годы. А странную манеру продавца
отметил как свет незаурядности.
Первое впечатление полностью подтвердилось
теперь, дома у Степанова. У него живут две кошки, что показательно
для человека не только в год Кота. Одну из просторных комнат заняла
система. Обстановка («раскиданные» по полу компоненты и целых семь
пар колонок) производит впечатление хаоса на новичка. Хозяин
сохраняет нетривиальный образ мыслей и еще более — изложение «Я мало
ем, и главное — не хочется есть. Могу все время возиться со звуком.
Вот зовут играть в теннис… вообще я перестал слушать музыку, когда
пришли компакт-диски. Все, кому я демонстрирую звук, шизеют и
признают, что такого не слышали еще. Но хочу поставить
45-сантиметровые басовики и получить постоянно играющий средний низ.
Я пришел к выводу, что правильный звук невозможно выстроить
правильными методами. Интересно, правда?».
 Совершенно
алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил
центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о
беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов
услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить
иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что
Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое
с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер
«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»
(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie
Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant
EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я
слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»
в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада
на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом
протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол
мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —
ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла
резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой
собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и
наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ
записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,
прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:
эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без
утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,
разговаривать, даже читать. Совершенно
алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил
центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о
беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов
услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить
иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что
Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое
с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер
«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»
(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie
Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant
EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я
слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»
в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада
на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом
протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол
мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —
ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла
резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой
собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и
наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ
записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,
прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:
эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без
утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,
разговаривать, даже читать.
Хозяин излагает все по-своему, но какая мне
разница? «Я задался целью построить театр, который не только
демонстрирует кино, но и играет музыку. Я решил доказать, что
аппаратура не главное».
 Разумеется,
во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,
но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры
всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и
колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые
компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил
песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»
— под другие, а акустику и механические части задемпфировал
интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».
И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в
голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.
Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную
боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие
активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все
пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы
монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой
точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном
фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот
такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости
оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,
вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего
решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте
«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он
обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних
частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из
необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание
экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».
Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.
Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но
вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»
от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр
мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей
колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми
панелями… Разумеется,
во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,
но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры
всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и
колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые
компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил
песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»
— под другие, а акустику и механические части задемпфировал
интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».
И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в
голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.
Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную
боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие
активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все
пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы
монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой
точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном
фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот
такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости
оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,
вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего
решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте
«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он
обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних
частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из
необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание
экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».
Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.
Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но
вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»
от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр
мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей
колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми
панелями…
купить уличное покрытие.
 Петр
Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность
поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация
глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены
вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание
диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос
несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального
архитектора и талантливого установщика. Он добивается
сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не
важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком
неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет
достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после
того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками
с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель
«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,
что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот
вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше
жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или
сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного
«иксэрсидишек». Петр
Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность
поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация
глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены
вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание
диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос
несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального
архитектора и талантливого установщика. Он добивается
сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не
важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком
неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет
достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после
того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками
с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель
«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,
что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот
вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше
жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или
сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного
«иксэрсидишек».
Самый удивительный эксперимент случился перед
моим уходом. Я пошел в кухню, вдруг слышу отец Петра, чья комната по
соседству, запел вполголоса — да так проникновенно, по-стариковски.
Возвращаюсь в комнату — оказывается, это Петр в мое отсутствие
поставил какой-то «кривой» компакт Гребенщикова. Как я мог не
отличить мертвое от живого? Переходим на стерео-режим — все
волшебство исчезает моментальльно.
А как же кино? Как играет режим DTS? Здесь
ничего неожиданного после всего сказанного. Кино с DVD сохраняет все
преимущества и обогащается новым, аналоговым балансом частот.
ДТС-овские диски, разумеется, дают отличный задний план. Было бы
странно, если б было иначе. На то Петр и архитектор звука.
|
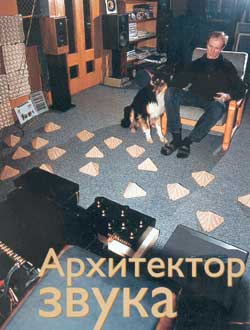 Объемный
звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при
этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится
переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,
полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и
некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как
склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не
хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных
образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.
Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару
лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже
переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь
единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались
обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными
двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая
художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет.
Объемный
звук, домашний кинотеатр, DVD… Не знаю как на вас, но па меня при
этих словах накатывает устойчивая тоска. Мне видится
переворачивающийся и горящий «Линкольн» на чрезмерно ярком экране,
полосная страница с рекламой «пластмассовых» ящиков в журнале и
некая печатная плата, внутри которой плодится алгоритм — как
склизкая «тварь» из одноименного «ужастика». Мне решительно не
хочется в этот непривычный и непривлекательный мир искусственных
образов и подстроенных трюков. Петру Степанову тоже не хотелось.
Больше того — не хотелось настолько, что он с Игорем Бабаком пару
лет назад затеял почти альтруистский «Клуб хай-энда» (позже
переименованный в «БиП-клуб», описанный в «High End Review»). Здесь
единомышленники ратовали за «правильный аналоговый звук» и пытались
обратить в свою веру прихожан, буквально нагружая их массивными
двухканальными ламповиками и виниловыми вертушками. Клуб, как всякая
художественная самодеятельность, загнулся, но Степанов — вовсе нет. Совершенно
алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил
центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о
беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов
услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить
иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что
Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое
с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер
«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»
(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie
Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant
EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я
слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»
в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада
на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом
протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол
мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —
ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла
резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой
собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и
наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ
записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,
прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:
эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без
утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,
разговаривать, даже читать.
Совершенно
алогичный ход мыслей хозяина я позабыл, когда тот включил
центральный процессор «Lexicon DC-1» в режиме «logic 7». Я позабыл о
беспорядке в комнате, о годе Кота — обо всем на время. Я был готов
услышать хороший, очень хороший звук — в эту рубрику нельзя угодить
иным образом. Но услышал нечто неожиданное. Можно было подумать, что
Петр жил моей жизнью и думал моими мыслями. Взглянув на фото, снятое
с кресла слушателя, вы можете поставить себя на мое место: сабвуфер
«REL Stadium 2», подальше пара двухполосных мониторных «Сонус Фабер»
(модель Concertino) через 250-ваттный профессиональный оконечник «Mackie
Ml400» подключена к центральному каналу «Лексикона», а башни «Octant
EZX» через старенький добренький NVA AP50 — к «основному фронту». Я
слышу только их (так мне кажется!) и слышу диск Майка Олдфилда «Amarok»
в новинку. Ни в каком из прослушиваний я не слышал ТАКОГО расклада
на диске: гитары — строго по краям, ритм-секция эффектным полукругом
протянута по полу от одной колонки до другой, голос опирается на пол
мощно и грубо как столб (нет, как командир!). Нигде и никогда! Это —
ладно. Но ни одна из партий ни в одном аспекте не проявляла
резкости, оловянности, импульсивности. Я мог бы подтвердить свой
собственный нынешний тезис: подавляя пики оцифрованной динамики и
наращивая инертность на средних, мы можем обуздать цифровой способ
записи со всеми его (дутыми?) преимуществами, пространственностью,
прозрачностью и прочим. Что мы выиграем от этого? Понятно:
эмоциональность старого и хорошо записанного «аналога» без
утомления. Под эту музыку наконец-то можно будет отдыхать,
разговаривать, даже читать. Разумеется,
во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,
но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры
всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и
колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые
компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил
песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»
— под другие, а акустику и механические части задемпфировал
интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».
И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в
голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.
Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную
боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие
активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все
пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы
монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой
точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном
фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот
такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости
оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,
вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего
решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте
«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он
обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних
частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из
необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание
экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».
Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.
Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но
вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»
от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр
мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей
колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми
панелями…
Разумеется,
во многом хороший плотный звук задается удивительным «Лексиконом»,
но ведь никто иной как Петр верно выставил на нем задержки и тембры
всех семи каналов Он подобрал верные кабели межблочные XLO и
колоночные Transparent. А главное — он поставил все цифровые
компоненты на мрамор, все усилители — на дерево. Он подложил
песочные подушки под одни аппараты, полушария из сырой резины «Foculpod»
— под другие, а акустику и механические части задемпфировал
интересными и недорекламированными ребристыми прокладками «Deflex».
И наконец именно он расположил все так, как мало кому придет в
голову «Центр» работает на пару колонок, а не на центральный спикер.
Мощнейший усилитель в комнате Adcom-GFA5800 нагружает скромную
боковую акустику Celestion-100, которой почти не слышно. Отличнейшие
активные трехполосники К+Н О96, Mackie HR824, Genelec-1030 — все
пошли на тыл. Я точно бы поменял все местами. Наконец я не стал бы
монтировать пару колонок (Sonance DR7001) на потолок над «сладкой
точкой» прослушивания, выпиливая ниши в специально навешенном
фальш-потолке (кстати, последний — тоже поле для эксперимента). Вот
такая «лоджик семь». Линейность, словцо, которым по необходимости
оперирует хозяин, здесь применимо лишь в одной интерпретации вкус,
вернее, наитие хозяина. Зачастую Петр сам не может обосновать своего
решения — просто рука сама двигает очередную настройку на пульте
«Лексикона» — и звук выправляется. Что значит «выправляется»? Он
обретает характер. Характер всегда кроется в количестве средних
частот и в уровне «центрального канала» (central dialog). Один из
необычных, но вполне объяснимых, поступков Петра — прикрывание
экрана роскошного телевизора Loewe неказистым «шумопоглотителем».
Еще — развешивание на колонках-башнях полос материи и паласа.
Понятно, этим он гасит «стеклянные» или «деревянные» отражения. Но
вряд ли это заметно. Иное дело — раскладывание картонных «уголков»
от упаковки на полу и обивка стен яичной упаковкой. Если бы Петр
мог, он достал бы вдоволь пробки и обил бы ей все, вплоть до панелей
колонок. Он вспоминает славные модели прежнего «Танноя» с пробковыми
панелями… Петр
Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность
поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация
глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены
вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание
диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос
несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального
архитектора и талантливого установщика. Он добивается
сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не
важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком
неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет
достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после
того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками
с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель
«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,
что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот
вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше
жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или
сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного
«иксэрсидишек».
Петр
Степанов переходит на «общепринятый» язык: «Лучшая равномерность
поля… непривязанность слушателя к поканальной информации… реализация
глубинной составляющей… ненавязчивая локализация распад сцены
вследствие подчеркнутых переходных характеристик… создание
диффузного поля в НЧ-области». Я прощаю ему этот пафос
несостоявшегося инженера и уважаю воплощение профессионального
архитектора и талантливого установщика. Он добивается
сбалансированной реализации 20 Гц в комнате. Как он это делает, не
важно. Он твердит, что сможет достичь сходных результатов на всяком
неотсортированном комплекте аппаратуры, если подруками будет
достаточно пространства и подручных материалов. Верю. Верю после
того, как DVD-проигрыватель был обложен простыми спальными подушками
с обеих сторон и в него был воткнут самодельный цифровой кабель
«Apogee Electronics» — аппарат сильно поправился в звучании. Жаль,
что Петр не может применить своего умения в записи на студии — вот
вышел бы интересный диск. Правда, для целей демонстрации Петр больше
жалует «неправильно» записанные диски, где слишком много того или
сего. Поэтому на его полке встречаются даже «пираты» и вовсе немного
«иксэрсидишек».